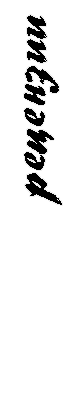 |
| |
|
|
| |
Дмитрий Панов - "Ангелы утренних рюмочных"
(с) & (p) Дмитрий Панов, Санкт-Петербург, 2018
 Лидеру питерской группы МЕТАНОЙЯ Дмитрию Панову повезло хотя бы в том, что свою поэзию в виде книг он начал издавать задолго до того, как выбился в число легенд русского рока. Поэтому его литературное творчество вполне может рассматриваться как вполне самостоятельное явление, а не как приложение к его музыкальной деятельности. Обычно бывало наоборот, хотя история, конечно, знает и забавные прецеденты - например, когда бывший лидер второстепенной панк-группы Павел Крусанов прославился в качестве прозаика, или когда у поэтессы Жени Глюкк имелось огромное количество ценителей, даже не подозревавших, что она еще и поет. А какая ипостась в итоге окажется главной у Дмитрия, еще неизвестно. Лидеру питерской группы МЕТАНОЙЯ Дмитрию Панову повезло хотя бы в том, что свою поэзию в виде книг он начал издавать задолго до того, как выбился в число легенд русского рока. Поэтому его литературное творчество вполне может рассматриваться как вполне самостоятельное явление, а не как приложение к его музыкальной деятельности. Обычно бывало наоборот, хотя история, конечно, знает и забавные прецеденты - например, когда бывший лидер второстепенной панк-группы Павел Крусанов прославился в качестве прозаика, или когда у поэтессы Жени Глюкк имелось огромное количество ценителей, даже не подозревавших, что она еще и поет. А какая ипостась в итоге окажется главной у Дмитрия, еще неизвестно.
Стихи, открывающие сборник и относящиеся к раннему периоду его творчества, не очень-то походят на рок-поэзию в традиционном ее понимании. То есть при желании их можно положить на любую музыку - если в этом вообще есть необходимость. Можно спеть как классический романс, можно - как бардовскую лирику в ранних традициях Дольского и Клячкина, можно даже как традиционную советскую эстраду. Правда, для полного воплощения такого замысла в жизнь пришлось бы воскресить кого-нибудь из великих стариков типа Андрея Петрова или Вениамина Баснера. Но в любом случае дух старого Петербурга и Ленинграда из текстов вытравить было бы невозможно.
Дождливый романтизм сплетает август,
Застряв в шестидесятницких верандах,
Где нас, мой друг, опять потопит Бахус
На пасмурных, червивых фолиантах.
И новый век размажет о бесцелье
Надрывы по развенчанным легендам:
Для нас с тобой - привычное похмелье,
Для них - карьерный рост и дивиденды.
Лирический герой вслушивается в музыку улиц, но совсем не для того, чтобы раствориться в ней и превратиться в Маугли из асфальтовых джунглей. Он ни на минуту не забывает, что живет в культурной столице, и совершает свои сентиментально-романтические прогулки в компании самых разных попутчиков - тех, с которыми всегда найдется, о чем поговорить. Каких только имен не встретишь на страницах книги Панова! Башлачев, Бродский, Бердяев, Кафка... С кем-то, как с Ницше, можно обменяться мимоходом едва заметным приветствием, над кем-то, как над Есениным, немного постебаться, переиначив его знаменитое "До свидания, друг мой, до свидания...". И все это - с типичным для молодости ощущением, что мы живем в эпоху "последних художников", что все самое лучшее уже сделано и сказано до нас, а нам к этому добавить нечего.
Дроботенит. Петросянит.
Запредельной грязью манит.
Темень. Сытая берлога.
Грустно умникам без Бога...
Абсолютно убийственная характеристика полному безвременью, окружавшему нас всех еще десять лет назад и заставлявшему даже неглупых вроде бы людей заниматься всякой ерундой. Впрочем, были и у него свои плюсы - можно было немного поразмышлять о вечном и не бояться завтрашнего дня, который все равно такой же скучный, как и все предыдущие. В стихах Панова мы наблюдаем напряженную, иногда мучительную, граничащую с мазохизмом работу над собой. Иногда даже начинает казаться, будто автор так желает донести до читателя озарившую его мысль, что не особенно утруждает себя подбором правильных слов. "Я скучаю в своих правдах, я стремглав желаю истины..." Вообще-то "стремглав" - это всего лишь "быстро, стремительно" в связи с каким-либо передвижением в пространстве. Можно бегать стремглав, но можно ли желать? Так ведь и до каких угодно "стремительных домкратов" договоришься...
А вдруг это он специально так над языком издевается? Ведь вся проза Андрея Платонова перенасыщена подобными нелепыми конструкциями, и именно ими и изъяснялась целая эпоха. Вдруг и Панов уловил нечто наиболее характерное для языковой стихии нынешнего времени и построил именно на нем свое несколько нелогичное, даже хаотичное, но все же по-своему революционное творчество? На уровне образов и сюжетов ему это удалось точно, а уж где только его не посещает вдохновение!..
Предчувствуя слюнявую опрятность
На паперти раздавленных призваний,
Мешаю черно-белую плакатность
С палитрой декадентских изысканий.
Ах, коли напророчить, коль узнать бы -
И обойти соблазны снов тлетворных!..
Душа - как щель срамная после свадьбы
В пророчествах общественных уборных.
Как известно, по заведенным много веков тому назад церковным правилам бани и сортиры считаются настолько нечистыми местами, что даже не подлежат освящению. Однако в замечательной дилогии "Пророчества общественных уборных" именно в такой экстремальной обстановке поэт переживает настоящий момент истины. Совсем как лет сорок назад Майк Науменко, воспевший ванную комнату за ту же самую возможность уединиться и побыть наедине с самим собой. Вот и еще один пример преемственности, наследования культурных традиций - но, как оказывается, далеко не самый главный.
Во второй части сборника, названной "Ангел необъяснимого", на первый план выходят библейские мотивы и вообще становится больше неба, воздуха и ощущения, что счастье все-таки есть, хотя и дается оно непросто. Городская суета отступает и уступает место тому, что сам Дмитрий называет "молчанием навзрыд". Его романтическое одиночество - вернее, уже добровольное уединение, необходимое для творчества. Интересно, кстати, как меняется читательское восприятие пановских текстов в этой части сборника. Еще недавно их избыточность, переполненность прилагательными начинали утомлять - как и сосредоточенность на самокопании, на прямо-таки детальном выписывании каждого нюанса своих метаний и страданий. Вроде и сочувствуешь, и веришь каждому его слову, а ждешь - не дождешься, когда же он вспомнит, что помимо его персоны в мире существует еще что-то и кто-то. И вдруг... обнаруживаешь, что перед нами - самый настоящий художник-импрессионист, способный написать с необыкновенной легкостью любой фантастический пейзаж или сюжетную сцену:
В подлунную дрожь
И в ложь за грош,
И в космос косматых сомнений
Плывут облака,
Стекают века,
Устав от огня воскресений.
Над ветхостью крыш -
Сакральная тишь.
Ни звезд, ни распятий, ни взлетов.
Прохладен гранит.
И молох молчит,
И нет Вифлеемовых родов.
Ну, правда же - красота?! Причем не сопливая, не искусственная, а какая-то тревожная, болезненная. Даже в описании полного покоя автор признает несовершенство окружающего мира и не может с этим смириться. Такой же многострадальной он рисует и любовь, и природные явления, да и себя не очень-то щадит. То округляется до нуля, то свою финальную наготу на всеобщее обозрение выставит, подчеркивая, что так же смертен и тленен, как и все остальное население подлунного мира. Вообще героических поз он старательно избегает даже в самых трагических вещах, что не мешает иногда проявить неожиданную смелость. Скажем, в стихотворении "Не время" начинает иронизировать над самим Экклезиастом, в пику ему призвав налить по четвертой и в столь расслабленном состоянии пережить темные времена. Что ж, это хотя бы честно - особенно, когда от жизни ждать особенно нечего.
Однако самому Дмитрию быть все время бесшабашным прожигателем жизни скучно. Совесть-то у него болит, а сердце песен все равно требует! И тогда он, используя накопленный опыт, начинает реформировать свой поэтический язык, свой подход к реальности. Так в нем постепенно просыпается радикальный авангардист, которому предоставляется полная свобода действий уже в третьей части - "Время грибника". Авангардизм этот, правда, на поверку оказался немножко сэкондхэндовским, не претендующим на новаторство в чистом виде. Изобрести что-либо новое в наше время, конечно, трудно - особенно в области формы. Куда проще выкопать из могилы классика и заставить его писать так, будто он родился на 50 или целых 100 лет позже и знаком со всеми нюансами современного нашего житья-бытья. Скажем, совершенно убойная по своей уморительности, бесконечная - растянутая аж на три страницы - "Духовная летопись" представляет собой вариации на темы Даниила Хармса, к сожалению, не дожившего до расцвета "шестидесятнической" деревенской поэзии и не узнавшего, что его знаменитый "Иван Топорышкин" может кем-то восприниматься на полном серьезе. Если читать такое на поэтических вечерах либо же на концертах в перерывах между песнями, то гомерический хохот в зале неизбежен. "Политика фотосинтеза" - это ранний Маяковский с чуть-чуть примешанными наночастичками Северянина. Целая серия миниатюр типа "На безлюдье" - скорее всего хлебниковского происхождения, но без претензий на гениальность. Встречаются и попытки продолжить дело пока еще живых современников - как, например, "В лото", очень похожее на типичного Игоря Иртеньева. А вот вам гениальный Вознесенский - не тот, что в "Миллионе алых роз" или "Девочке в автомате", а настоящий, любящий не совсем точные рифмы и эффектные жесты:
Да и будь ты хоть Стриндберг, хоть сам Сведенборг,
Хоть Гагарин - позняк, ты уже включен в торг,
И наяды без комплекса ложной вины
Не падут на тебя в свете полной Луны.
Не болтайся в проеме, иди на покой -
И жалей себя правой рукой.
Ну все ему впору - любые маски, любые стили, кроме скучного! И, может быть, только к лучшему, что Дмитрий в своем творчестве не реализует какую-то философскую концепцию, как это было принято у обожаемых им поэтов Серебряного века, а просто играет в слова с самим собой. Вероятнее всего, его единственная цель - уйти как можно дальше от привычного и достаточно легко дающегося песенного формата к чему-то такому, что невозможно спеть. Формально это у него получается, а по сути - конечно же, нет. Драйв в его стихах делается только более мощным, степень откровенности - уже запредельной, возможной только тогда, когда человек остается наедине с собой.
 Но ради чего нам демонстрируют все эти немудреные фокусы? Что хотел донести до нас автор, кроме представления о себе как о начитанном и склонном к рефлексии человеке? Ведь до сих пор он в основном искал себя, пытался определить свое место в мире и выписывал различные варианты автопортретов, употребляя многочисленные "я" такое количество раз, что постепенно начинаешь сомневаться - а нужен ли ему еще кто-нибудь? Ведь даже описывая свое одиночество в толпе, лирический герой как будто не переживает из-за него, не замечает того, что его голос - голос вопиющего в пустыне! Но ради чего нам демонстрируют все эти немудреные фокусы? Что хотел донести до нас автор, кроме представления о себе как о начитанном и склонном к рефлексии человеке? Ведь до сих пор он в основном искал себя, пытался определить свое место в мире и выписывал различные варианты автопортретов, употребляя многочисленные "я" такое количество раз, что постепенно начинаешь сомневаться - а нужен ли ему еще кто-нибудь? Ведь даже описывая свое одиночество в толпе, лирический герой как будто не переживает из-за него, не замечает того, что его голос - голос вопиющего в пустыне!
Все сомнения одним махом уничтожает четвертая часть - "Чудеса", объединяющая самые зрелые тексты Дмитрия. Вы спросите, в чем чудеса-то? Да хотя бы в том, что во многих стихотворениях самым употребляемым оказывается слово "небо" или "небеса" - словно сигналы, посылаемые героем в бесконечность, наконец-то дошли до высших сфер, и начинают приходить ответные послания. А еще в том, что достойный выход из тупика найден, что нагнетаемая постоянно клаустрофобия, паника и тяга к саморазрушению побеждены раз и навсегда. В одном из самых ярких стихотворений (или, скорее, мини-былине) "Колокола", сделанном очень по-башлачевски, автор черпает целебную силу из фольклорных корней, из народной музыки и древней мифологии. В романтическом и столь же музыкальном "Голландце", отдаленно созвучном мужественным, неподдельно оптимистическим балладам бардов-"шестидесятников" (особенно Александра Городницкого), он уже готов бросать вызов стихиям и бороться с любыми непопутными ветрами и течениями мирового океана. Самые главные слова о любви и ее способности преобразовывать и губить целые миры тоже произносятся на этих же страницах - с такой же внутренней напряженностью и самоотдачей, что опять же вспоминается Башлачев и его "но объясни, люблю оттого, что болит или это болит оттого, что люблю?" Автор редко употребляет местоимение "мы", не очень-то желая ассоциировать себя с каким-то коллективным сознанием, но уж если это "мы" обретает дар речи, то договаривается до самых страшных и болезненных откровений:
Любили ли мы
Святым забытьем под прицельным огнем?
Любили ли мы
В седых ноябрях на пустых площадях?
Любили ли мы?
Н скатерти снег, дрожит человек,
Любили ли мы?
Любили ли мы?..
Тут сразу обо всем - и о глубоко личном, и о присутствии или отсутствии в этом мире бога, который является синонимом слова "любовь", и не звучащий прямо, но подсознательно задаваемый всем нам вопрос: "А жили ли мы?"
Вот об этом, собственно говоря, и вся книга Дмитрия Панова. И хорошо, что он не дал всех ответов на первых же страницах, а помучил нас, поводил запутанными лабиринтами своих медитаций и философствований, не раз заронив в душе читателя сомнение, выведет ли хоть куда-то хитрый и многословный Иван Сусанин, прикинувшийся библейским Моисеем? Сборник построен как своеобразный поэтический детектив, исход которого не знаешь до самого последнего момента. Добавим к этому столь же удачное внешнее оформление, мощно воздействующее на читательские эмоции - и получим полную картину законченного концептуального произведения искусства, на которое способны очень немногие рок-поэты.
При всем при том немного жаль, что Дмитрий и самого себя очень жестоко пытал и мучил при написании большинства стихотворений. Далеко не всегда поэзия должна быть легкой для читательского восприятия - иногда для пробуждения в виртуальном своем собеседнике совести и еще каких-то "чувств добрых" поэт имеет право и по морде кулачищем съездить, и по мозгам настучать чем-нибудь тяжелым. Однако читатель не должен замечать, как больно поэту подыскивать эпитеты и выстраивать фразы, как он теряется перед необходимостью из множества возникающих в его воображении ярких картинок выбрать самую нужную. В песнях группы МЕТАНОЙЯ иллюзия легкости, вдохновенности творчества присутствует почти всегда. Рок-н-ролл для ее лидера - не работа, а литература - нелегкий труд, пусть и дающий отличные результаты. При такой работоспособности, как у Панова, правда, все может со временем измениться, но когда именно - вряд ли знает даже он сам. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее. Ведь Моцарт и Сальери, пытающиеся ужиться в одной голове - это опасная ситуация, чреватая катастрофой...
Автор: Олег Гальченко
опубликовано 01 мая 2020, 12:13
Публикуемые материалы принадлежат их авторам.
Другие рецензии
|
|
| |
|
|
|  |
|